Му, ма и исчезающий город. Эссе по мотивам "Токио Га" Вима Вендерса
Старый VHS рип сначала даже раздражал своим подергиванием и шумом, но спустя всего пару минут картинка начала завораживать. Я смотрела на Токио 1985-го года, в котором Вим Вендерс безуспешно пытался отыскать Токио 1953-го года - город, в котором жил и творил великий режиссер Ясудзиро Одзу. Трудно было понять свои эмоции, но картинка не отпускала - там было все, с чем я никогда не сталкивалась: огромные неоновые вывески Coca-Cola, сидящие в ряд офисные работники, играющие в пачинко, рокабилли, танцующие на улице под американский рок-н-ролл. Ритм фильма создавал все более отчетливое осознание - я тоскую по городу, которого больше нет.
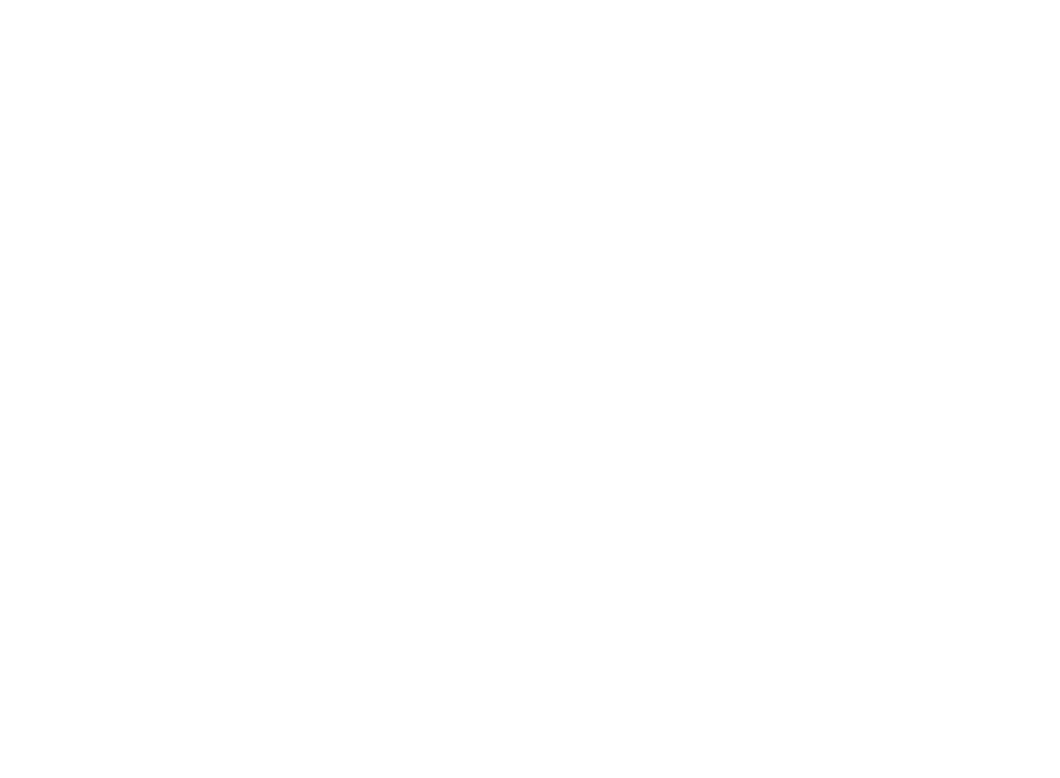
На серой могильной плите посреди кладбища Энгаку-дзи, где похоронен Одзу выгравирован всего один иероглиф 無 “му” - что в переводе с японского означает “ничто”. Вендерс приезжает к этому камню и честно признается:
“Мне было любопытно узнать, смогу ли я найти что-нибудь из того времени, сохранилось ли что-то от его работ, возможно, образы или даже люди... Или за двадцать лет после смерти Одзу в Токио так много поменялось, что найти уже больше нельзя ничего"
В японской эстетике философское му 無 почти всегда стоит рядом с переживаемым ма 間 - паузой, которая делает это ничто ощутимым. Ма выражает нечто, что находится между пространствами, объектами или событиями. Пустота в японской традиции - не отсутствие, а наоборот, осязаемое присутствие ничего. Это тишина между гудками поезда в “Токийской повести” Одзу, неподвижный чайник в “Поздней весне”, окна вагона, который Вендерс упрямо держит в кадре дольше “необходимого”. Пленка не заполняет пустоту, а акцентирует ее дыхание: зритель замечает, как воздух сгущается вокруг предметов, пока ничего не происходит.

Оператор Юхару Ацутa вспоминает, что Одзу снимал 50-мм объективом словно сидя на татами - камера фиксировалась ниже колена актера, заставляя пространство играть минимальными изменениями света и жеста. Вендерс, блуждая по гольф-клубам на крышах и залам пачинко, ищет аналогичное ма внутри неонового хаоса и вдруг ловит его в неожиданной тишине: мелькание шариков, монотонный подсчет очков, но по-настоящему звучит лишь пауза, когда игрок отрывает взгляд от автомата и на долю секунды ничего не делает.
Дрожание VHS ленты - это тоже ма, непреднамеренная щель между изображениями. Сквозь нее проступает не сам Токио 53-го года, а его отчетливое отсутствие.
Дрожание VHS ленты - это тоже ма, непреднамеренная щель между изображениями. Сквозь нее проступает не сам Токио 53-го года, а его отчетливое отсутствие.
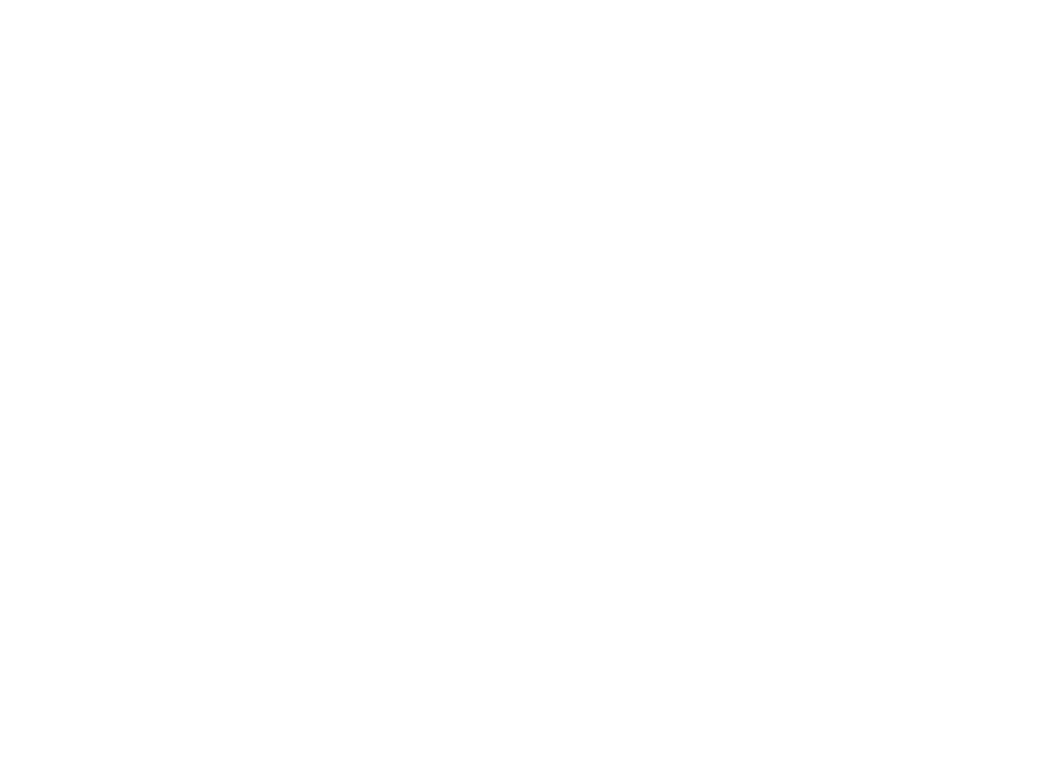
Если Одзу и Вендерс учились беречь редкий образ, то Вернер Херцог, появившись внезапно в Токио Га предупреждает об обратном: настанет время “инфляции изображений”, когда каждый кадр придется откапывать, словно реликвию.
“Сегодня так мало изображений. Нужно добывать их, как археолог, искать в опустошенном пейзаже… Мы отчаянно нуждаемся в образах, созвучных нашей цивилизации, которые резонируют с тем, что в глубине нас самих. Если придется, я готов лететь на Марс или Сатурн, потому что на Земле уже трудно найти прозрачность, какая была когда-то”
В этот момент кадр буквально дрожит. Херцог говорит не о редкости картин, а об их потерянном праве быть увиденными: изображения вроде бы повсюду, но каждое следующее оказывается более истертым, чем предыдущее. Два немецких режиссера сходятся в одном - образы истончаются, как бумага копирка: если Одзу и понятие ма требовали пустоты ради проявления смысла, то современный поток картинок создает обратную пустоту - в которой смысл вымывается.
Херцог ищет “адекватный” кадр на краю кратера вулкана или в мертвой пустыне - там, где любая человеческая фигура становится измерением масштаба. Вендерс, наоборот, блуждает по игровым автоматам и неоновым улицам, словно проверяет: можно ли еще выловить крупинку подлинного среди рекламного шума. Их маршруты расходятся, но вывод пугающе схож: изображение больше не гарантирует видимости.
Херцог ищет “адекватный” кадр на краю кратера вулкана или в мертвой пустыне - там, где любая человеческая фигура становится измерением масштаба. Вендерс, наоборот, блуждает по игровым автоматам и неоновым улицам, словно проверяет: можно ли еще выловить крупинку подлинного среди рекламного шума. Их маршруты расходятся, но вывод пугающе схож: изображение больше не гарантирует видимости.
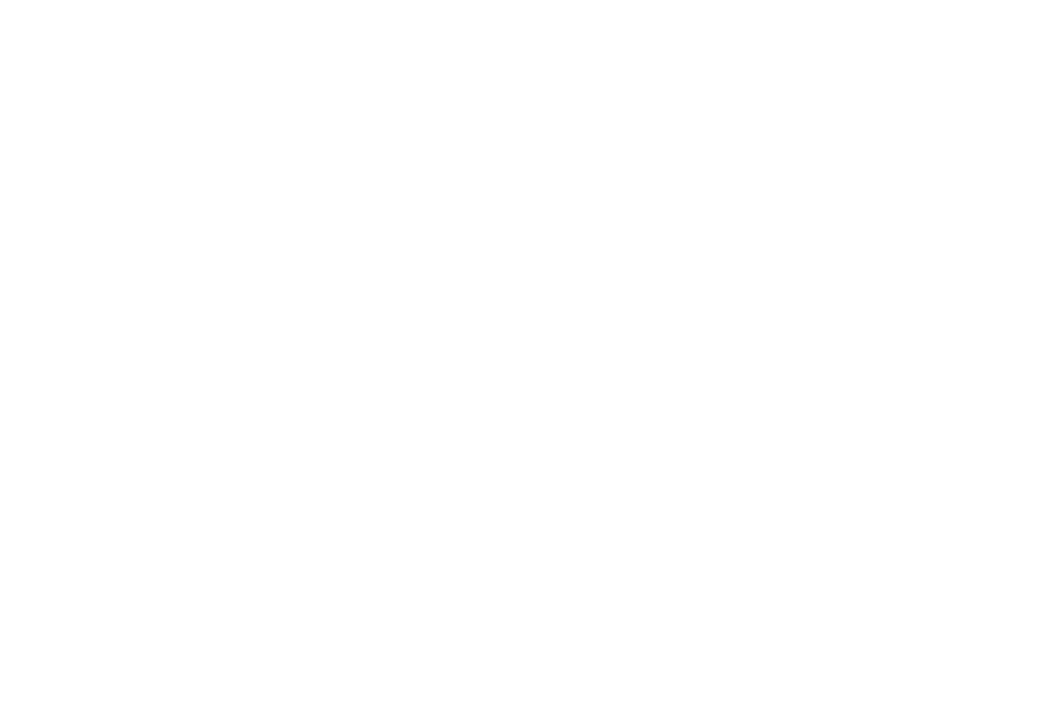
Тут-то и встает вопрос, который не дает покоя с момента дрожащего VHS: если пленка теряет плотность, а цифровой поток множит призраков - какова судьба самих копий? Симулякры, по Жану Бодрийяру, вытесняют оригинал, но не исчезают вместе с ним - они продолжают циркулировать, как лишенные крови носители воспоминаний.
Крохотный пластиковый омлет, который Вендерс долго рассматривает на витрине токийского бара - идеальный экспонат эпохи симулякров. Он выглядит вкуснее настоящего, не портится и остается навеки застывшим обещанием завтрака, которому не суждено случиться. Та же логика проникает в сам Токио Га: мы видим кусочки жизни, снятые на 16-миллиметровую пленку, которая уже тогда была вторичной копией - сначала реальности 1985-го, а через нее - непойманного Токио 1953-го.
У Бодрийяра симулякр рождается в тот миг, когда копия перестает ссылаться на оригинал и начинает вращаться сама по себе, подобно щелкающему в пустоте сувенирному шарику из пачинко. Именно так сегодня живут кадры Одзу: большинство зрителей воспринимают их через бесконечные gif-петли или фразы-цитаты в социальных сетях, никогда не соприкасаясь с тканью фильма. Оригинал растворился, но оборот копий не прекратился - наоборот, он ускорился настолько, что мертвая картинка выглядит “живее” любой реальной улицы.
Крохотный пластиковый омлет, который Вендерс долго рассматривает на витрине токийского бара - идеальный экспонат эпохи симулякров. Он выглядит вкуснее настоящего, не портится и остается навеки застывшим обещанием завтрака, которому не суждено случиться. Та же логика проникает в сам Токио Га: мы видим кусочки жизни, снятые на 16-миллиметровую пленку, которая уже тогда была вторичной копией - сначала реальности 1985-го, а через нее - непойманного Токио 1953-го.
У Бодрийяра симулякр рождается в тот миг, когда копия перестает ссылаться на оригинал и начинает вращаться сама по себе, подобно щелкающему в пустоте сувенирному шарику из пачинко. Именно так сегодня живут кадры Одзу: большинство зрителей воспринимают их через бесконечные gif-петли или фразы-цитаты в социальных сетях, никогда не соприкасаясь с тканью фильма. Оригинал растворился, но оборот копий не прекратился - наоборот, он ускорился настолько, что мертвая картинка выглядит “живее” любой реальной улицы.
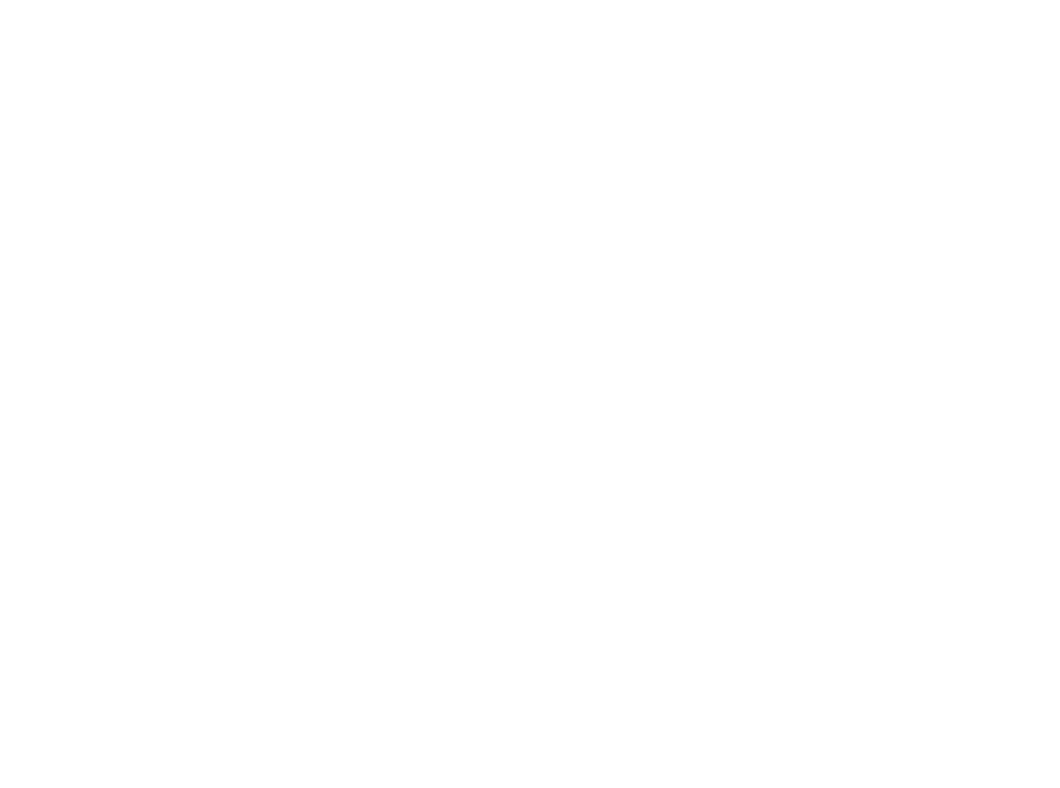
Вендерс фиксирует этот парадокс с осторожной нежностью: его камера скользит по пластиковым сашими, по телевизорам, транслирующим бейсбол в торговом зале. Каждый предмет здесь - дубликат, каждая транслируемая игра - эхо игры, сыгранной минуту назад. Токио оказывается многоэкранной матрешкой, где настоящий миг уже спрятан под несколькими слоями отражений. Но если симулякры не могут умереть, значит ли это, что утрата отменяется? Скорее наоборот: чем надежнее копия, тем острее ощущается отсутствие тела, которое она когда-то дублировала.
Одзу заставлял пленку дышать “под счет сердца” - его прославленные pillow shots / подушечные кадры, стояли особняком в монтажной цепи, как невидимые запятые, которые дают фразе закончить звук. Светофор у переезда, пустой коридор - эти крошечные паузы создают отрицательную форму действия и тем самым фиксируют объем утраты - чем дольше выдержка, тем отчетливее ощущается то, чего нет.
Вендерс, напротив, идет по Токио 1985-го “дневниковым блужданием” - камера переходит от крыши гольф-клуба к подземке, от кладбища к игровой зале, будто ищет собственный пульс. Но именно легкий дрейф фокуса и непредсказуемая длина дубля формируют ма 間 - интервал, в котором зритель успевает распознать отсутствие прежнего города. Вендерс держит ракурс секунд на пять дольше привычного, и этот излишек вдруг становится медитацией.
Одзу заставлял пленку дышать “под счет сердца” - его прославленные pillow shots / подушечные кадры, стояли особняком в монтажной цепи, как невидимые запятые, которые дают фразе закончить звук. Светофор у переезда, пустой коридор - эти крошечные паузы создают отрицательную форму действия и тем самым фиксируют объем утраты - чем дольше выдержка, тем отчетливее ощущается то, чего нет.
Вендерс, напротив, идет по Токио 1985-го “дневниковым блужданием” - камера переходит от крыши гольф-клуба к подземке, от кладбища к игровой зале, будто ищет собственный пульс. Но именно легкий дрейф фокуса и непредсказуемая длина дубля формируют ма 間 - интервал, в котором зритель успевает распознать отсутствие прежнего города. Вендерс держит ракурс секунд на пять дольше привычного, и этот излишек вдруг становится медитацией.

Позже, уже зная каждую паузу в Tokyo-Ga, я все-таки включала фильм снова и снова - хотелось еще раз посмотреть на дрожащую панораму города. Россыпь высоток вспыхивала вновь, запуская крошечный круговорот зрительного импульса. Это созвучно самому фильму: Токио Га строится на маленьких возвратах, словно Вендерс проверяет, не утекло ли что-то из кадра, пока он моргнул. Так работает петля памяти - она не дает изображению раствориться окончательно и в то же время не возвращает его в первоначальную целостность. Каждый оборот стирает пол-тона, но фиксирует внимание еще крепче.
Одзу предугадывал эту механику, выводя в кадр циклические мотивы: поезда, отхлопывающие рельсы в равномерном такте, или чайник, который вот-вот закипит - и не закипает. Повторение здесь - не развитие действия, а закрепление паузы. Ма превращается в петлю, удерживающую тишину под давлением времени. Вендерс, вооруженный ручной камерой и хлопающими створками метро, расширяет амплитуду: его петля разрастается до размеров города, где каждая улица отражается в витрине, а витрина - в объективе телевизора. От этого сам Токио кажется записанным на бесконечную кассету, которую никто не догадался остановить.
Одзу предугадывал эту механику, выводя в кадр циклические мотивы: поезда, отхлопывающие рельсы в равномерном такте, или чайник, который вот-вот закипит - и не закипает. Повторение здесь - не развитие действия, а закрепление паузы. Ма превращается в петлю, удерживающую тишину под давлением времени. Вендерс, вооруженный ручной камерой и хлопающими створками метро, расширяет амплитуду: его петля разрастается до размеров города, где каждая улица отражается в витрине, а витрина - в объективе телевизора. От этого сам Токио кажется записанным на бесконечную кассету, которую никто не догадался остановить.

