Ландшафт в якутском кино
В Якутии не принято противопоставлять себя природе. Она мыслится, как среда существования, в которой человек не находится, а сквозь которую живет. Это очень важно, ведь невозможно быть вне природы, если она определяет твою жизнь и твою смерть. В этой статье мы не будем говорить о мифах, верованиях или космологии, о которых уже шла речь в предыдущих текстах. Здесь нас интересует только одно: как именно якутский кинематограф использует ландшафт как форму визуального мышления. Что делает его особым в кинематографическом пространстве - вне зависимости от жанра, бюджета или тематики? Как выглядит кино, в котором земля смотрит на человека, а не наоборот?
Первое, что чувствуется при просмотре якутских фильмов - это темп, или, точнее, его отсутствие в привычном понимании. Здесь нет суеты, нарочитого напряжения, или вынужденной скорости. Но это и не тот затянутый артхаус, к которому привык западный зритель. Якутское кино медленно не потому, что хочет быть медленным, а потому что вынуждено синхронизироваться с пространством, в котором оно происходит. Ритм фильма задается пейзажем. Остановка камеры перед заснеженным полем длится столько, сколько нужно не по сюжету, а по ощущению. Это роднит якутский кинематограф с «ландшафтной драматургией» Бэлы Тарра или Шанталь Акерман, но в отличие от них, якутские режиссёры не создают ландшафт, а находятся в нем.
У кинематографа саха есть своя собственная визуальная палитра - не столько цветовая, сколько температурная. Преобладающие элементы кадра - снег, туман, небо, иней - часто лишены резких контрастов. Свет в таких кадрах растворяет границы и подчеркивает неопределенность.
Такой эффект, например, заметен в документальном фильме «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых. Там Арктика показана как существо без контура, центра и защиты. Ученый Максим Чакилев наблюдает за ежегодным выходом моржей на берег. Из-за сокращения шельфового морского льда они всё чаще вынуждены выходить на твердую сушу, создавая катастрофическую давку. Однако визуальный язык фильма подчеркивает не климатическое событие, а напряженное молчание среды - камера присутствует как невидимый свидетель медленной катастрофы.
Первое, что чувствуется при просмотре якутских фильмов - это темп, или, точнее, его отсутствие в привычном понимании. Здесь нет суеты, нарочитого напряжения, или вынужденной скорости. Но это и не тот затянутый артхаус, к которому привык западный зритель. Якутское кино медленно не потому, что хочет быть медленным, а потому что вынуждено синхронизироваться с пространством, в котором оно происходит. Ритм фильма задается пейзажем. Остановка камеры перед заснеженным полем длится столько, сколько нужно не по сюжету, а по ощущению. Это роднит якутский кинематограф с «ландшафтной драматургией» Бэлы Тарра или Шанталь Акерман, но в отличие от них, якутские режиссёры не создают ландшафт, а находятся в нем.
У кинематографа саха есть своя собственная визуальная палитра - не столько цветовая, сколько температурная. Преобладающие элементы кадра - снег, туман, небо, иней - часто лишены резких контрастов. Свет в таких кадрах растворяет границы и подчеркивает неопределенность.
Такой эффект, например, заметен в документальном фильме «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых. Там Арктика показана как существо без контура, центра и защиты. Ученый Максим Чакилев наблюдает за ежегодным выходом моржей на берег. Из-за сокращения шельфового морского льда они всё чаще вынуждены выходить на твердую сушу, создавая катастрофическую давку. Однако визуальный язык фильма подчеркивает не климатическое событие, а напряженное молчание среды - камера присутствует как невидимый свидетель медленной катастрофы.
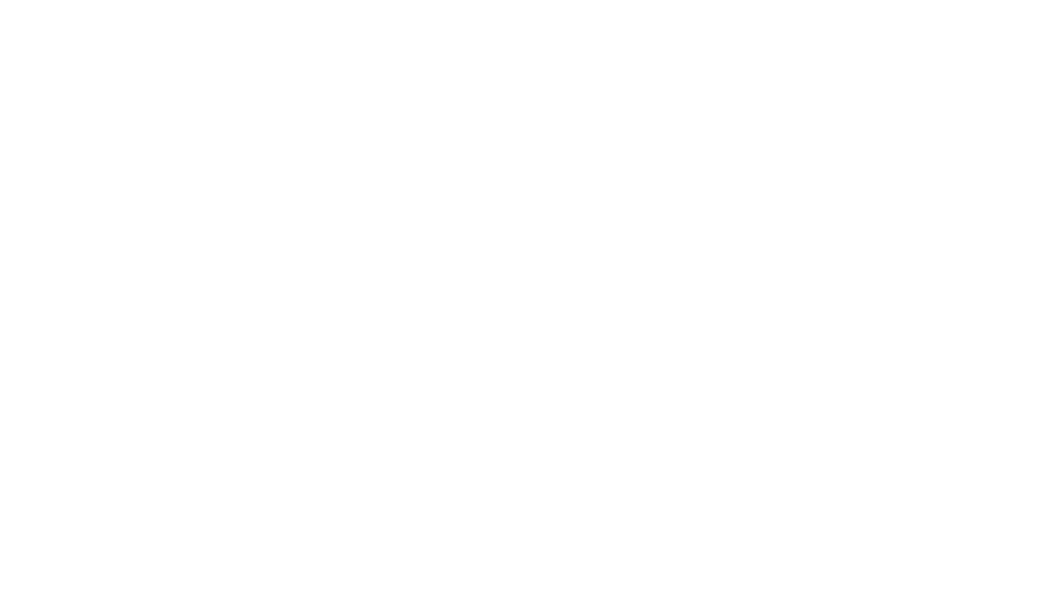
выход
Максим Арбугаев, Евгения Арбугаева
2022
Максим Арбугаев, Евгения Арбугаева
2022
Именно такая логика близка визуальному мышлению якутского кино в целом. Кинематограф Севера часто строится на внутреннем изменении пространства, нежели на действии. Образ зимней пустыни как жизненной среды героини становится ключевым элементом фильма «Пугало» Дмитрия Давыдова. Пространство в этом фильме прямо отражает состояние героини: заснеженная долина, разрезанная деревянными изгородями (кюруё), превращается в метафору одиночества, изгнания и предельного сосредоточения. Дом героини холоден, как и все, что ее окружает, но именно в этом холоде растворена ее внутренняя сила.
Один из кадров фильма, где Пугало обнимает березу посреди леса, визуально кодирует архетипическую фигуру Аан Алахчын Хотун - Хозяйки Земли, отторгнутую людьми, но не природой. Здесь важны не столько поступки или развязка, сколько то, как пространство постепенно принимает или отвергает человека.
Один из кадров фильма, где Пугало обнимает березу посреди леса, визуально кодирует архетипическую фигуру Аан Алахчын Хотун - Хозяйки Земли, отторгнутую людьми, но не природой. Здесь важны не столько поступки или развязка, сколько то, как пространство постепенно принимает или отвергает человека.
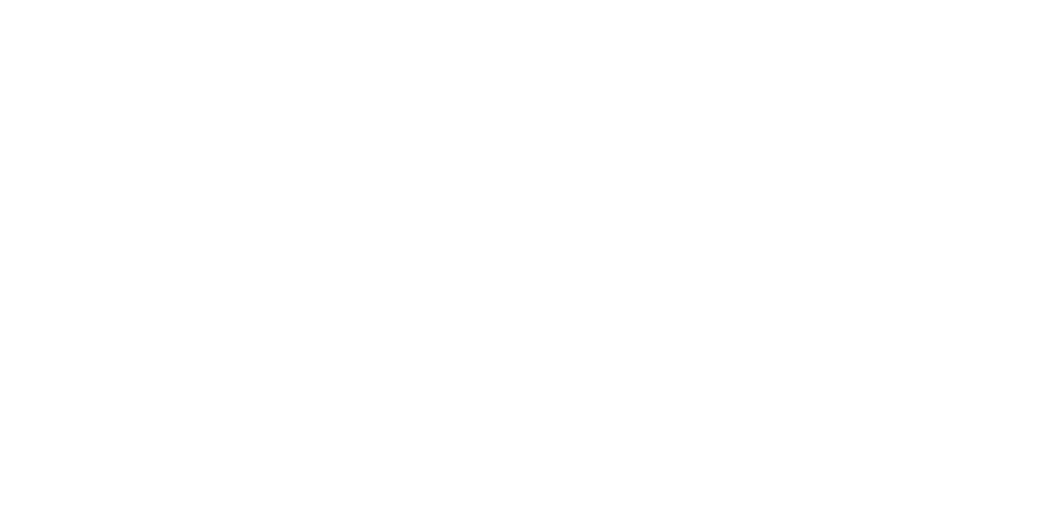
пугало
дмитрий давыдов
2020
дмитрий давыдов
2020
Одно из устойчивых визуальных решений в якутском кинематографе - сдвиг масштаба от человека к земле. Герой в кадре часто оказывается маленьким, удалённым, почти растворенным, и не потому, что он слаб или потерян, а потому что сама композиция кадра отказывается подчиняться человеческому масштабу. Здесь не человек определяет перспективу, а ландшафт диктует точку зрения.
В фильме «Хара Хаар» Степана Бурнашева, горизонт и масштаб кадра становятся неотъемлемой частью развития сюжета. Главный герой - дальнобойщик, который снабжает свою родную деревню паленой водкой. Его машина ломается в дороге, оставляя его один на один со смертельным холодом. Здесь вступает в силу другое пространство: не социальное, а природное. В этой тишине и изоляции сам ландшафт становится судом - он теряет руку от обморожения - буквально и символически. Природа отвечает на его равнодушие к людям, равнодушием к его телу.
Финальная сцена «Хара Хаар» - один из сильнейших визуальных образов фильма. Камера с высоты показывает, как герой, в полумертвом состоянии идет по бесконечному белому полю, оставляя следы на снегу. Его фигура - крошечная точка на огромной белой поверхности, не отделимая от земли.
В фильме «Хара Хаар» Степана Бурнашева, горизонт и масштаб кадра становятся неотъемлемой частью развития сюжета. Главный герой - дальнобойщик, который снабжает свою родную деревню паленой водкой. Его машина ломается в дороге, оставляя его один на один со смертельным холодом. Здесь вступает в силу другое пространство: не социальное, а природное. В этой тишине и изоляции сам ландшафт становится судом - он теряет руку от обморожения - буквально и символически. Природа отвечает на его равнодушие к людям, равнодушием к его телу.
Финальная сцена «Хара Хаар» - один из сильнейших визуальных образов фильма. Камера с высоты показывает, как герой, в полумертвом состоянии идет по бесконечному белому полю, оставляя следы на снегу. Его фигура - крошечная точка на огромной белой поверхности, не отделимая от земли.
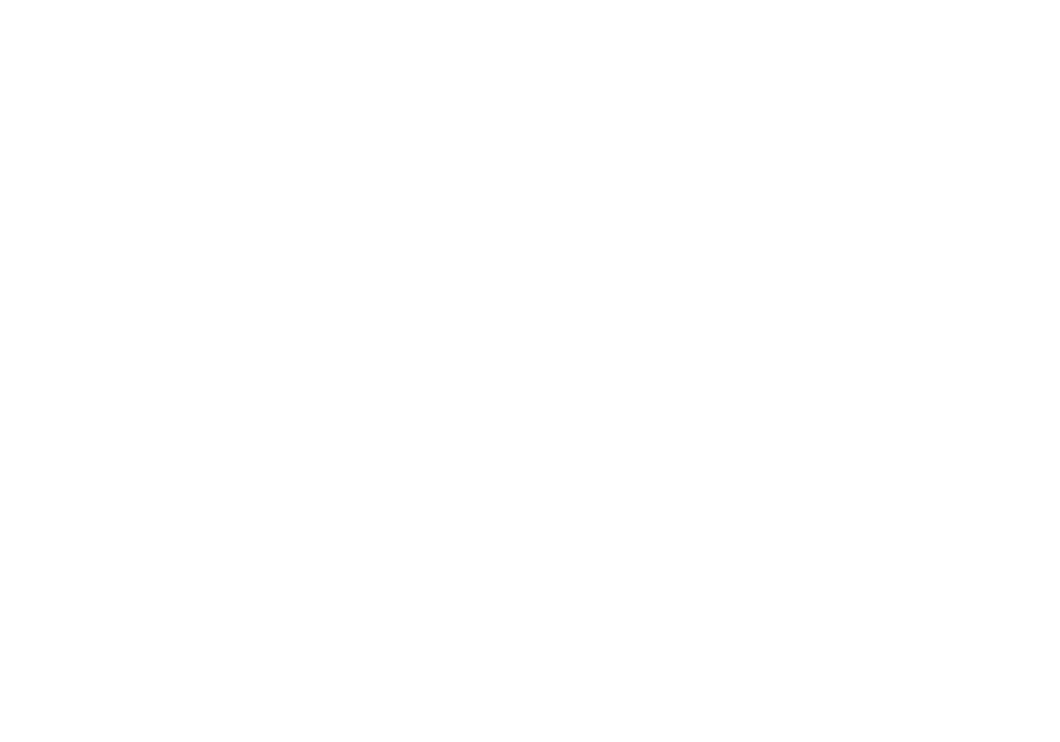
черный снег
степан бурнашев
2021
степан бурнашев
2021
Эта же логика масштабного кадра, где пространство структурирует восприятие, проявляется и в фильме «Карина» (2024) Марианны Сиэгэн. Основанный на реальной истории, фильм рассказывает о девочке, потерявшейся в тайге и проведшей двенадцать дней в одиночестве среди лесов, болот и диких зверей. Ландшафт здесь предстает средой, в которой ребенок вынужден научиться существовать. В одной из сцен член поисковой операции стоит перед стеной леса - человеческая фигура выглядит ничтожно малой перед мощью тайги. Вместо того, чтобы подчеркивать тревогу, камера фиксирует масштаб.
Один из узнаваемых элементов якутской визуальности - широкоугольный взгляд. Пространство растягивается до предела, создавая ощущение открытости, в которой человеческая фигура становится мерой соприсутствия, а не центром внимания. Важным становится то, как человек вписан в структуру мира. Этот подход заметно отличает якутское кино от большинства региональных кинематографий, которые склонны подчеркивать локальное через человека. В якутском кино локальное - это не человек, а пространство, в которое он вписан. Именно поэтому пейзаж в здесь никогда не декоративен. Он не подчеркивает эмоции, а сам является событием.
Один из узнаваемых элементов якутской визуальности - широкоугольный взгляд. Пространство растягивается до предела, создавая ощущение открытости, в которой человеческая фигура становится мерой соприсутствия, а не центром внимания. Важным становится то, как человек вписан в структуру мира. Этот подход заметно отличает якутское кино от большинства региональных кинематографий, которые склонны подчеркивать локальное через человека. В якутском кино локальное - это не человек, а пространство, в которое он вписан. Именно поэтому пейзаж в здесь никогда не декоративен. Он не подчеркивает эмоции, а сам является событием.

