Особенности якутского кино
За последние два десятилетия якутский кинематограф прошел путь от локального культурного явления до одного из самых заметных феноменов на карте российского и мирового кино. Хотя первые фильмы начали снимать в республике еще в 1980-е, переломным моментом многие считают два проекта: “Тропа смерти” (2006) - полу-любительский хоррор-дебют Анатолия Сергеева, и “Тайна Чингис Хаана” (2009) - исторический блокбастер Андрея Борисова.
“Тропа смерти” стала первым фильмом, который использовал коммерческий маркетинг и вызвал неожиданный зрительский резонанс. По городу были расклеены листовки с фотографией якобы пропавшего парня - на самом деле, это был актер из фильма. “Тайна Чингис Хаана” провалилась в прокате, но стала масштабной производственной школой и важным шагом для становления местной индустрии.
Сегодня якутский кинематограф - уже устоявшийся феномен. Фильмы стабильно участвуют в федеральных и международных фестивалях. “Пугало” Дмитрия Давыдова получил Гран-при "Кинотавра", "Царь-птица" Эдуарда Новикова - главную награду Московского международного кинофестиваля. "Его дочь" Татьяны Эверстовой и "Черный снег" Степана Бурнашева были отмечены на фестивале "Окно в Европу". "Костёр на ветру" показывали в Пусане, а документальный фильм "Выход" Максима и Евгении Арбугаевых был номинирован на премию Оскар.
Не каждый региональный кинематограф оказывается в центре внимания за пределами своей территории. Чтобы это произошло, должны сойтись множество факторов. В этой статье мы попробуем разобраться, что сделало якутское кино таким, каким мы видим его сегодня.
“Тропа смерти” стала первым фильмом, который использовал коммерческий маркетинг и вызвал неожиданный зрительский резонанс. По городу были расклеены листовки с фотографией якобы пропавшего парня - на самом деле, это был актер из фильма. “Тайна Чингис Хаана” провалилась в прокате, но стала масштабной производственной школой и важным шагом для становления местной индустрии.
Сегодня якутский кинематограф - уже устоявшийся феномен. Фильмы стабильно участвуют в федеральных и международных фестивалях. “Пугало” Дмитрия Давыдова получил Гран-при "Кинотавра", "Царь-птица" Эдуарда Новикова - главную награду Московского международного кинофестиваля. "Его дочь" Татьяны Эверстовой и "Черный снег" Степана Бурнашева были отмечены на фестивале "Окно в Европу". "Костёр на ветру" показывали в Пусане, а документальный фильм "Выход" Максима и Евгении Арбугаевых был номинирован на премию Оскар.
Не каждый региональный кинематограф оказывается в центре внимания за пределами своей территории. Чтобы это произошло, должны сойтись множество факторов. В этой статье мы попробуем разобраться, что сделало якутское кино таким, каким мы видим его сегодня.
Мифология и язык
Одна из первых черт, выделяющих якутский кинематограф - его глубокая связь с культурными корнями народа саха. Несмотря на то, что республика входит в состав РФ, с ее централизованной культурной парадигмой и официальной христианской традицией, якутское кино опирается на локальные смыслы, мифы и язык. Возможно, феномен саха-кино вырос именно из феномена саха-культуры - той уникальной способности соединять древнее и современное, родовое и личное, языческое и христианское. Этот дуализм, как и политическая история народа, пронизывает визуальный и смысловой слой многих фильмов.
На экране звучит родной язык, а сюжеты питаются местными легендами и верованиями. Режиссеры сознательно вплетают шаманские обряды, эпос и народные сказания в структуру своих картин. Первые кассовые успехи принесли именно фильмы в жанре тубэлтэ - фольклорные ужасы на основе местных страшных сказаний.
На экране звучит родной язык, а сюжеты питаются местными легендами и верованиями. Режиссеры сознательно вплетают шаманские обряды, эпос и народные сказания в структуру своих картин. Первые кассовые успехи принесли именно фильмы в жанре тубэлтэ - фольклорные ужасы на основе местных страшных сказаний.
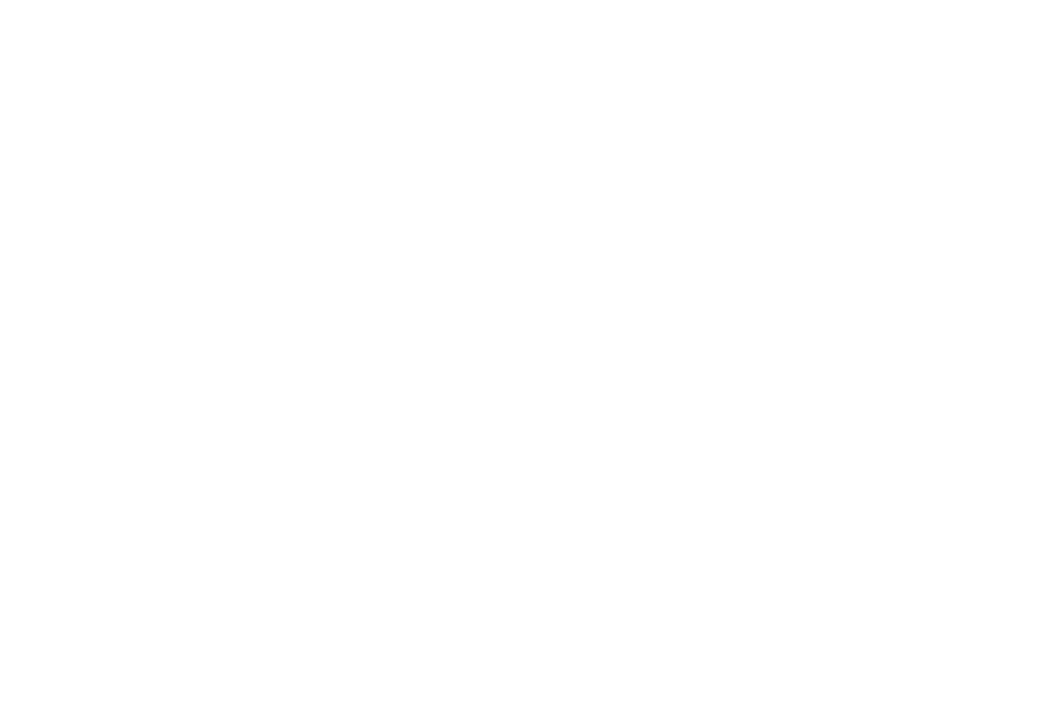
Один из первых коммерчески успешных фильмов - “Тропа смерти” (2006) - обращался к теме сакрального наказания. Страх в этом фильме имел не только физиологическую, но и антропологическую глубину. В центре сюжета - древнее шаманское дерево, вместилище духов. Группа молодых людей, нарушая традиционные запреты, ломает это дерево, запуская цепь мистических и фатальных событий: один за другим герои погибают.
Почему эти мотивы находят такой отклик у местного зрителя? Потому что они обращаются не к новизне страха, а к его узнаваемости. Это не проклятие из случайной книги, найденной в заброшенном доме, как в “Зловещих мертвецах”. В западных фильмах ужасов зло часто приходит извне - оно непонятно, экзотично, пробуждается случайно, появляется с чужой земли, из книги на непонятном языке, из забытых мифов чужого народа.
В якутском кино все иначе. Зло здесь - не внешнее, а внутреннее, родовое, знакомое каждому. Оно не вторгается извне, оно всегда было рядом. На этой земле, в этом лесу, в родной деревне. Оно не требует объяснений, потому что уже известно. Именно эта близость страха - знание, а не удивление - делает якутские фильмы ужасов столь мощными для местного зрителя.
Для народа саха мифологическое мышление - часть повседневной жизни. Духи леса, обряды, сакральные места, табу на определенные действия - это не предмет веры или сомнения, а просто порядок вещей. Само собой разумеется, что в лесу нельзя кричать или громко разговаривать, что перед важным делом нужно покормить землю, что мир населяют духи. Якутский традиционный праздник в честь богов Верхнего мира Ысыах каждый год посещают сотни тысяч человек, несмотря на относительно небольшое население республики. Люди живут в пространстве, где граница между реальным и сверхъестественным изначально проницаема. Это и делает мифологические мотивы в якутском кино такими близкими зрителю.
Почему эти мотивы находят такой отклик у местного зрителя? Потому что они обращаются не к новизне страха, а к его узнаваемости. Это не проклятие из случайной книги, найденной в заброшенном доме, как в “Зловещих мертвецах”. В западных фильмах ужасов зло часто приходит извне - оно непонятно, экзотично, пробуждается случайно, появляется с чужой земли, из книги на непонятном языке, из забытых мифов чужого народа.
В якутском кино все иначе. Зло здесь - не внешнее, а внутреннее, родовое, знакомое каждому. Оно не вторгается извне, оно всегда было рядом. На этой земле, в этом лесу, в родной деревне. Оно не требует объяснений, потому что уже известно. Именно эта близость страха - знание, а не удивление - делает якутские фильмы ужасов столь мощными для местного зрителя.
Для народа саха мифологическое мышление - часть повседневной жизни. Духи леса, обряды, сакральные места, табу на определенные действия - это не предмет веры или сомнения, а просто порядок вещей. Само собой разумеется, что в лесу нельзя кричать или громко разговаривать, что перед важным делом нужно покормить землю, что мир населяют духи. Якутский традиционный праздник в честь богов Верхнего мира Ысыах каждый год посещают сотни тысяч человек, несмотря на относительно небольшое население республики. Люди живут в пространстве, где граница между реальным и сверхъестественным изначально проницаема. Это и делает мифологические мотивы в якутском кино такими близкими зрителю.
Природа и климат
Якутский кинематограф невозможно отделить от пространства, в котором он рождается. Ландшафты вечной мерзлоты, тундра и тайга, полярные ночи и летние восходы, экстремальные морозы и гулкая тишина снежных полей - все это формирует визуальную и философскую основу якутского киноязыка.
В ментальной модели мира народа саха природа занимает центральное место. На Севере, где зима длится девять месяцев, а температура достигает –50 °C, невозможно отделить человеческий мир от природного. Здесь жизнь формируется ландшафтом, от него зависит и смерть. Природа и культура не противопоставляются, а живут как единое целое.
В ментальной модели мира народа саха природа занимает центральное место. На Севере, где зима длится девять месяцев, а температура достигает –50 °C, невозможно отделить человеческий мир от природного. Здесь жизнь формируется ландшафтом, от него зависит и смерть. Природа и культура не противопоставляются, а живут как единое целое.
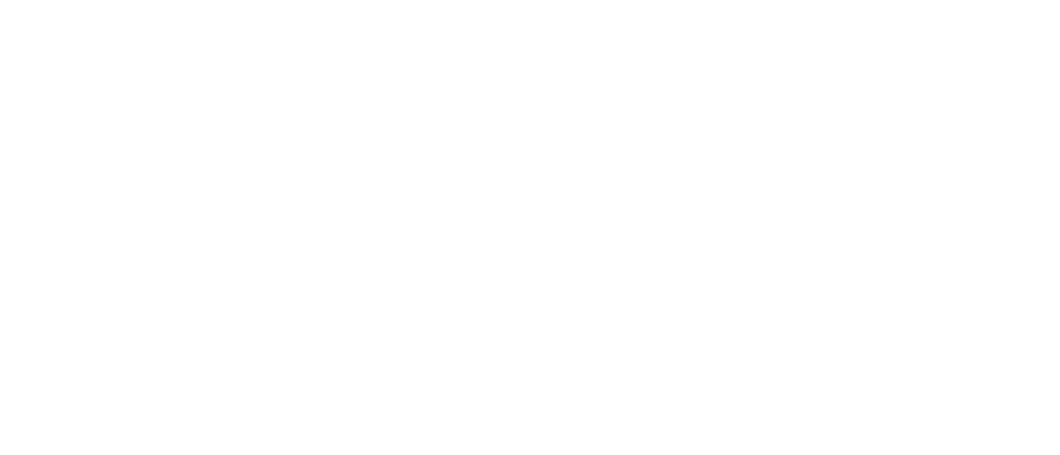
белый день
михаил лукачевский
2013
михаил лукачевский
2013
Кино обращается к природным образам как к символам памяти, времени, границ между мирами. В триллере “Белый день” (2013) Михаила Лукачевского бескрайняя снежная тундра и мороз становятся источником саспенса и ужаса: герои застревают в заглохшей машине и один за другим погибают, пока над ними полыхает зловещее северное сияние. У северных народов есть понятие “белый день” - когда небо сливается со снегом - считалось, что в такие дни духи спускаются к людям. Этот мифологический образ Лукачевский обыгрывает визуально, показывая безграничную белую пустоту, где меркнут границы между миром живых и миром духов.
Ландшафт часто отражает и внутреннее состояние персонажа. Если герой потерян - кадр пуст, если он движется к прозрению - на горизонте появляется свет. Срубленное дерево может стать образом утраты корней и опоры, как в фильме Дмитрия Давыдова “Нет бога кроме меня”, а восход солнца - метафорой перерождения, как в “Боге Дьёсёгёй” (2015) Сергея Потапова.
Ландшафт часто отражает и внутреннее состояние персонажа. Если герой потерян - кадр пуст, если он движется к прозрению - на горизонте появляется свет. Срубленное дерево может стать образом утраты корней и опоры, как в фильме Дмитрия Давыдова “Нет бога кроме меня”, а восход солнца - метафорой перерождения, как в “Боге Дьёсёгёй” (2015) Сергея Потапова.
Ремесло энтузиастов
Кинематограф саха - феномен не только культурный, но и производственный. Он родился практически из ничего: без студий, инфраструктуры, капитала - но с горящими глазами и непреодолимым желанием рассказывать истории. Большинство якутских кинематографистов самоучки. Дмитрий Давыдов, автор фестивального хита “Пугало”, до начала своей кинокарьеры был сельским школьным учителем и снимал фильмы во время каникул. В 2016 году его картину “Костер на ветру”, снятую чуть более чем за миллион рублей, показали на Пусанском кинофестивале, что стало началом его международного признания.
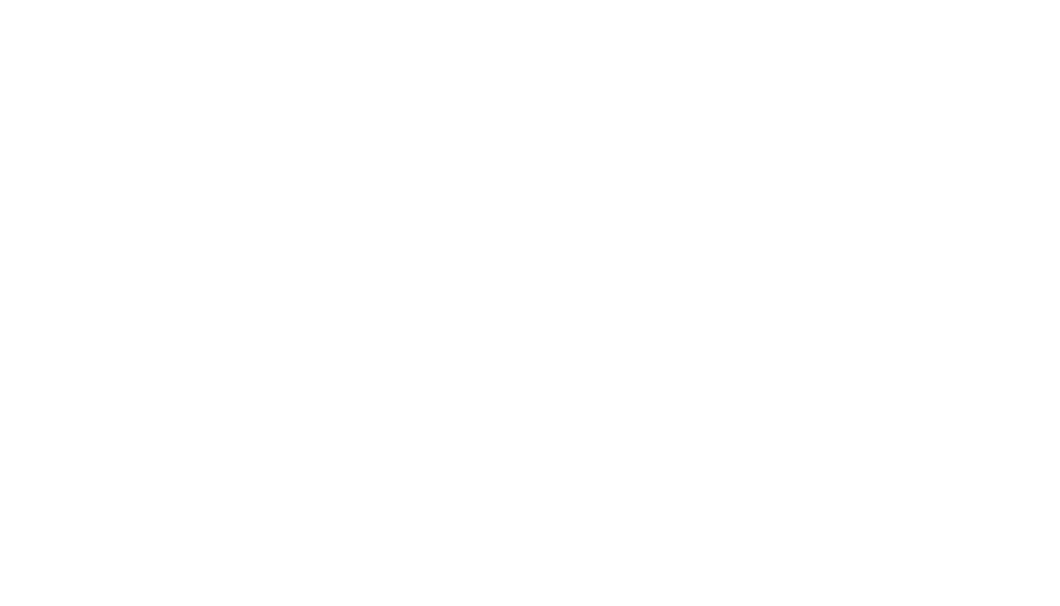
костер на ветру
дмитрий давыдов
2016
дмитрий давыдов
2016
Бюджеты же большинства якутских фильмов по-прежнему не превышают пяти миллионов рублей. Для сравнения: самый дорогой проект в истории “Тайна Чингис Хаана” (2009), стоил около десяти миллионов долларов - и провалился в прокате. Этот опыт окончательно утвердил в республике модель микро-бюджетного независимого производства. Один человек может одновременно быть режиссером, сценаристом и продюсером, а в кадре - непрофессиональные актеры и съемочные группы.
Финансовая мотивация здесь редко оказывается главной: деньги рассматриваются как инструмент, а не как цель. Тем не менее, коммерческий успех тоже играет большую роль. Якутское кино живет в прокате, находит своего зрителя и возвращает вложения. Народная поддержка превращается в реальные кассовые сборы. Да, якутское кино - это кино энтузиастов, но не наивных идеалистов. Здесь знают свою аудиторию и умеют с ней говорить.
Финансовая мотивация здесь редко оказывается главной: деньги рассматриваются как инструмент, а не как цель. Тем не менее, коммерческий успех тоже играет большую роль. Якутское кино живет в прокате, находит своего зрителя и возвращает вложения. Народная поддержка превращается в реальные кассовые сборы. Да, якутское кино - это кино энтузиастов, но не наивных идеалистов. Здесь знают свою аудиторию и умеют с ней говорить.
Жанровое не противопоставляется авторскому
Бум якутского кино начался с хорроров и комедий. Комедии было легко снимать, они не требовали большого бюджета, а хорроры глубоко откликались у публики, затрагивая их глубинные страхи. Постепенно якутские режиссеры стали осваивать все более широкий жанровый спектр - от детективов и драм до спортивных байопиков, артхауса и экспериментального кино.
В мировой индустрии жанровое кино (комедия, триллер, спортивная драма) принято считать развлечением, в то время как авторское и экспериментальное кино - чем-то серьезным и фестивальным. В Якутии такое деление отсутствует. Хоррор или комедия здесь могут иметь мифопоэтическую структуру, а авторский фильм - быть понятным и близким широкой аудитории. Это отличает якутскую новую волну от тайской, филиппинской, или скажем, иранской, в которых жанровость, как правило, отвергается в пользу философских метафор, политических высказываний и общей фестивальности.
В мировой индустрии жанровое кино (комедия, триллер, спортивная драма) принято считать развлечением, в то время как авторское и экспериментальное кино - чем-то серьезным и фестивальным. В Якутии такое деление отсутствует. Хоррор или комедия здесь могут иметь мифопоэтическую структуру, а авторский фильм - быть понятным и близким широкой аудитории. Это отличает якутскую новую волну от тайской, филиппинской, или скажем, иранской, в которых жанровость, как правило, отвергается в пользу философских метафор, политических высказываний и общей фестивальности.
Сплоченность
Кинематограф саха вряд ли смог бы выйти на международный уровень, если бы изначально не опирался на собственную аудиторию. В республике сформировалась очень сильная поддержка местного кино - зрители ждут премьер, обсуждают фильмы, делятся ими, гордятся успехами. Эта вовлеченность работает как замкнутый цикл: успех одного фильма вдохновляет на создание следующего - такого же сильного или еще лучше. Зритель здесь чувствует себя как бы частью общего дела. А солидарность со своими фильмами уже стала этическим правилом.
При этом якутское кино остается открытым. Оно не элитарно и не замкнуто в фестивальном кругу. Его аудитория - все жители республики, вне зависимости от возраста, профессии или образования. Это редкий случай, когда национальный кинематограф действительно становится частью повседневной культуры, как своего рода, форма коллективной идентичности.
При этом якутское кино остается открытым. Оно не элитарно и не замкнуто в фестивальном кругу. Его аудитория - все жители республики, вне зависимости от возраста, профессии или образования. Это редкий случай, когда национальный кинематограф действительно становится частью повседневной культуры, как своего рода, форма коллективной идентичности.
Что будет дальше?
Сегодня кинематограф саха переживает переход от стихийного феномена к институционально подкрепленной индустрии – и этот процесс полон противоречий. С одной стороны, республика активно поддерживает своих кинематографистов. В 2022 году парламент Якутии принял закон о господдержке кино: проекты молодых режиссеров теперь могут получать до 100% финансирования из бюджета. За три года власти региона инвестировали 95 млн рублей в 29 кинопроектов - по местным меркам это значительная сумма. В том же году Якутия была признана лучшим регионом России по уровню поддержки киноиндустрии.
К 2027 году в Якутске планируется строительство первого на Дальнем Востоке киностудийного комплекса полного цикла. У местного кинематографа появится собственная производственная база: павильоны, декорационные городки, постпродакшн-центры и вся необходимая инфраструктура в одном месте.
Но поддержка обычно идет бок о бок с контролем. В 2023 году фильм Степана Бурнашева “Айта” был отозван из проката, несмотря на успех на региональных и зарубежных фестивалях. Причина - трактовка сюжета как провокационного, подрывающего межнациональное согласие.
Для самобытного искусства это риск – потерять независимость и остроту высказывания. Однако некоторые якутские авторы считают, что компромиссы не отменяют идентичности. Баланс между государственной поддержкой и художественной свободой - хрупкий, но необходимый. С одной стороны - инфраструктура и ресурсы. С другой - голос, который должен остаться честным и узнаваемым.
У якутского кино впереди большие возможности - и немалые вызовы. В его успехе уже никто не сомневается, но по какому пути оно пойдет в дальнейшем - покажет лишь время.
К 2027 году в Якутске планируется строительство первого на Дальнем Востоке киностудийного комплекса полного цикла. У местного кинематографа появится собственная производственная база: павильоны, декорационные городки, постпродакшн-центры и вся необходимая инфраструктура в одном месте.
Но поддержка обычно идет бок о бок с контролем. В 2023 году фильм Степана Бурнашева “Айта” был отозван из проката, несмотря на успех на региональных и зарубежных фестивалях. Причина - трактовка сюжета как провокационного, подрывающего межнациональное согласие.
Для самобытного искусства это риск – потерять независимость и остроту высказывания. Однако некоторые якутские авторы считают, что компромиссы не отменяют идентичности. Баланс между государственной поддержкой и художественной свободой - хрупкий, но необходимый. С одной стороны - инфраструктура и ресурсы. С другой - голос, который должен остаться честным и узнаваемым.
У якутского кино впереди большие возможности - и немалые вызовы. В его успехе уже никто не сомневается, но по какому пути оно пойдет в дальнейшем - покажет лишь время.

